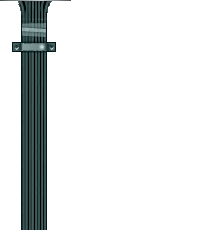Отношения по поводу служебных объектов интеллектуальной собственности как предмет трудового права

Максим Лабзин, Управляющий партнер, Юридическая фирма «Лабзин и партнеры»
Автор находит основания для точки зрения о том, что отношения между работником и работодателем по поводу служебных объектов интеллектуальной собственности являются трудовыми, а их договоренности на этот счет – предметом трудового договора.
Настоящую публикацию хочется начать с приведения общего правила, порожденного самой жизнью и естественным порядком вещей: все, что создает работник при выполнении своих служебных обязанностей, принадлежит работодателю. Ведь если работа такова, что она предполагает появление объективных результатов труда работника, то он и нанимается работодателем для того, чтобы все эти результаты стали собственностью последнего.
И хотя обычно оплачивается именно сам труд, но было бы противоречием здравому смыслу считать, будто работник нанимается только ради получения начальством возможности созерцать саму его работу.
Указанное правило хотя и является типичным, но допускает различные исключения и оговорки, в том числе в связи с предоставлением сторонам определенной свободы согласованного волеизъявления.
Вот и в законодательстве об интеллектуальной собственности, которое законодатель сделал формальным источником регулирования рассматриваемых отношений, мы видим отмеченное выше правило, но снабженное при этом известными оговорками о случаях, когда исключительное право на созданный при выполнении служебных обязанностей результат умственной деятельности будет принадлежать работнику (см. ст.1295, 1370, 1430, 1461, 1470 ГК РФ).
Данные правовые нормы имеют давнюю историю, касаются важнейшего вопроса о субъекте права в отношении объекта интеллектуальной собственности, активно применяются на практике и являются предметом постоянного внимания со стороны юридической науки. Однако представляется, что исследование правоотношений по поводу служебных ОИС имеет в настоящее время достаточно односторонний характер и неоправданно осуществляется только с позиций гражданского права, хотя при этом данным отношениям присущи и черты трудовых отношений.
В.А.Дозорцев в своей статье «Творческий результат: система правообладателей»[1] выразил убеждение в том, что основанием перехода прав на служебный ОИС к работодателю является гражданско-правовой договор, даже если его условия включены в документ, именуемый трудовым договором. Фактически это означает взгляд на отношения между сторонами и на предоставляемые законом работнику права как на гражданско-правовые отношения и права. Если посмотреть на аргументацию такого убеждения, то можно увидеть следующие доводы:
1) договор между работником и работодателем является основанием для перехода к последнему гражданского права, а субъективные гражданские права могут передаваться или предоставляться только по гражданско-правовому договору;
2) выводу о том, что трудовой договор является основанием возникновения у работодателя прав на результат противоречит правило об обязательной выплате вознаграждения сверх заработной платы.
Такое же убеждение высказывает в своей статье и В.Н. Кастальский[2]. В частности, со ссылкой на комментарий к IV части ГК РФ О.А. Городова[3] утверждается, что право на вознаграждение за использование служебных объектов промышленной собственности относится к числу «иных» имущественных прав, о которых говорит ст. 1226 ГК РФ. Впрочем, найти какие-либо собственные аргументы автора в пользу вывода о гражданско-правовой природе рассматриваемых отношений оказалось затруднительным. Напротив, такому выводу вряд ли соответствует высказанная автором мысль о том, что служебное задание не является заказом на создание изобретения. Если даже признать, что нельзя заказать создание изобретения, то определенно можно заказать достижение определенных показателей, решение определенной задачи, которое затем может оказаться изобретением. Соответственно, более последовательным в системе взглядов автора было бы утверждение, что служебное задание есть пример гражданско-правового заказа работы. Иначе вообще остается не ясным, какой же отраслью права регламентируются отношения по поводу выполнения работником конкретного задания работодателя выполнить определенную умственную работу. Если это и не трудовые отношения, и не гражданско-правовой заказ, то что же?
Иной позиции и иных аргументов в пользу гражданско-правовой природы рассматриваемых отношений, помимо вышеуказанных, нам встречать не приходилось.[4] При этом они повторяются многими авторами. Трудно спорить и с тем, что и сам законодатель склоняется к тому, чтобы считать данные отношения гражданско-правовыми. Гражданско-правовой характер договора о размере и порядке выплаты авторского вознаграждения за использование служебного произведения признается в настоящее время и Верховным Судом РФ – см. п. 26 Постановления Пленума ВС РФ №15 от 19 июня 2006 г.
Но такое положение дел не лишает актуальности дальнейшие исследования, поскольку перед наукой стоит задача найти юридическую суть отношений, которая им изначально присуща, затем помочь законодателю выбрать верные подходы к их оценке и регулированию, а иногда и указать на его ошибки. Закон – это как зеркало жизни. Оно должно быть прямым, но иногда отражение получается искаженным. По этому поводу известно весьма красноречивое высказывание, которое приписывают известному профессору М. Шаргородскому: «Юриспруденция как наука начинается там, где она говорит законодателю нет».
Названные выше аргументы не выглядят прочными, а потому обсуждение природы отношений между работником и работодателем по поводу служебных объектов ИС должно быть продолжено.
Так, первый указанный аргумент В.А.Дозорцева вызывает сразу два вопроса.
Во-первых, действительно ли можно считать доказанным, что имущественное (исключительное) право на объект переходит к работодателю, а не возникает у него первоначально? Текст соответствующих положений как прежнего, так и действующего законодательства не содержит формулировок, которые определенно указывают на переход права, а не на возникновение.
Нужно сказать, В.А. Дозорцев немалую часть своих трудов уделил тому, чтобы показать автора в качестве первоначального субъекта имущественного права. По его мнению, это обусловлено особой его связью с созданным объектом. Но вызывает сомнения, что эта действительно существующая связь не только приводит к защите личных неимущественных прав, не только является основанием для общей презумпции о принадлежности имущественных прав автору, но и проявляется абсолютно во всех ситуациях и отношениях. Сомневаемся, в частности, что она является препятствием к тому, чтобы признать работодателя изначальным обладателем исключительного (имущественного) права в силу закона. Ни одного отрицательного последствия или неудобства от такого признания мы не видим.
Здесь также следует вспомнить и пришедшую из Германии теорию правопреемства гражданских прав, согласно которой термин «переход права» является условным и обозначает прекращение права у одного и возникновение его в том же объеме у другого.[5] Это уменьшает актуальность вопроса о том, у кого первоначально возникает исключительное право: у работника или работодателя. Ведь даже если признать, что оно возникает у первого, то все равно в ту же секунду прекращается и возникает у второго. Таким образом, при любых взглядах безошибочным будет сказать, что нормы о служебных объектах ИС являются основанием возникновения имущественного права у работодателя.
Во-вторых, не только гражданский, но трудовой договор, несомненно, определяет субъекта гражданских прав и обязанностей в отношении результата труда работника. Например, когда рабочий изготавливает на станке изделия, то именно в силу наличия трудового договора и порожденных им трудовых отношений классическое гражданское право собственности возникает у работодателя. Конечно, трудовой договор и трудовое право регулируют в первую очередь отношения, возникающие в сфере наемного труда, сам процесс трудовой деятельности. Однако невозможно отрицать, что правовым результатом именно трудового договора (точнее, договора вместе с выполнением работы) является возникновение у работодателя гражданского права на результат работы.
Таким образом, было бы неверным утверждение, что только гражданско-правовой договор может привести работодателя к обладанию правом на результат выполнения работником умственной работы, соответствующей его трудовой функции.
Второй указанный В.А. Дозорцевым аргумент вызывает следующее сомнение: а действительно ли вознаграждение работнику за использование созданного им служебного объекта ИС является дополнительным к заработной плате и выпадает из предусмотренной трудовым правом системы вознаграждения за труд.
И позволим себе сказать, что данный вопрос является центральным в обсуждаемой теме. Необходимо установить природу этого вознаграждения. А для этого нужно проанализировать, за что же в конечном счете вознаграждается работник, в каких целях это вознаграждение установлено, в каком порядке выплачивается.
Центральным этот вопрос является потому, что не видится более никакого элемента, никакой характеристики, которые бы не позволяли отнести отношения между работником и работодателем по поводу служебных объектов ИС к трудовым отношениям.
Сразу отбросим такой формальный аргумент, как нахождение регулирующих эти отношения правовых норм в ГК РФ. Во-первых, нормы трудового права могут содержаться в любых источниках (см. ст. 5 ТК РФ), пусть даже в целом эти источники и относятся к другой отрасли права. Во-вторых, мы выше поставили себе трудную задачу не только изучить существующее правовое регулирование, но и скорректировать подходы законодателя.
Рассматриваемые отношения не выпадают ни из одного известного нам определения трудовых отношений.
Так, согласно ст. 15 ТК РФ «Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинением работника правилам трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором».
О.В. Смирнов предлагает следующее научное определение трудовым отношениям: «Трудовые отношения как предмет трудового права представляют собой звено производственных отношений, складывающихся в процессе применения наемного труда в общественной кооперации труда, когда гражданин включается в коллектив организации для выполнения определенного рода работы (трудовой функции) с подчинением установленному трудовому распорядку[6]
Не забудем, что мы говорим о результатах умственной работы, когда такая работа входит в трудовую функцию работника. В противном случае объект ИС не может считаться созданным в связи с выполнением служебных обязанностей или служебного задания, а отношения между работником и работодателям не являются предметом исследуемого правового регулирования.
Конечно, нужно заметить, что нормы ГК РФ о служебных объектах ИС в большей степени касаются не порядка осуществления труда по созданию этих объектов, а связанных с ними прав и обязанностей. Они решают два главных вопроса: кому эти объекты «принадлежат» и какое вознаграждение должен получить работник. Однако и регулирование трудовых отношений немыслимо без установления правовых норм по поводу уже выполненной работником работы, а также по поводу иных аспектов организации труда. Например, важнейшей составляющей трудового права являются нормы о вознаграждении за труд. Поэтому для настоящего исследования так важен вопрос о природе вознаграждения, предусмотренного в ГК РФ.
Пока же следует обратить внимание на то, что нормы ГК РФ о служебных объектах ИС устанавливают права и обязанности сторон трудовых отношений по поводу выполненной работником трудовой функции, а потому непосредственно связаны с организацией наемного труда и, таким образом, поглощаются предметом трудового права. А, например, обязанность работника, создавшего служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, сообщать об этом работодателю, и вовсе следует отнести к правилам трудового распорядка, направленным на защиту имущественных интересов работодателя.
Установленные в ГК РФ правовые нормы о служебных объектах ИС соответствуют и принципам трудового права. Здесь мы видим свободу трудового договора, когда именно договором определяется судьба отношений работника и работодателя, в данном случае - по поводу этих объектов. В вознаграждении усматривается принцип обеспечения права каждого работника на справедливую оплату труда при установлении законодателем только низшего предела.
Заложенное в анализируемых нормах ГК РФ правовое регулирование соответствует и тем методам, которое применяет трудовое право. Так, отчетливо проявляется сочетание договорного, рекомендательного и имперративного регулирования. Так, работнику и работодателю предоставлена большая свобода в решении различных вопросов по поводу служебных объектов ИС в договоре, а при отсутствии согласия или молчании будет действовать предусмотренные в ГК РФ правила, которые законодатель счел справедливыми. Но есть и правила, которые стороны своим волеизъявлением отменить или изменить не могут (например, сроки, в течение которых работодатель должен совершить действия по реализации своих прав на служебный объект ИС).
Такой метод, как сочетание централизованного и локального регулирования отношений в сфере труда может проявиться в принятии единых ставок на уровне предприятия или даже группы предприятий. Серьезных возражений против того, что такие ставки могут быть установлены коллективным договором, также не усматривается.
Таким образом, если юридический анализ приведет к тому, что и само это вознаграждение по своим характеристикам относится к вознаграждению за труд как институту трудового права, то в целом рассматриваемые правовые нормы и отношения являются трудовыми.
К сожалению, хоть сколько-нибудь подробных исследований этого вопроса мы не встречали. Возникает впечатление, что для тех, кто признавал право на данное вознаграждение гражданско-правовым, было достаточно факта нахождения норм о нем в гражданском законодательстве, а также примеров иных подобных вознаграждений (например, вознаграждения автору музыки к фильму за публичное исполнение фильма).
Между тем правила ТК РФ о вознаграждении за труд весьма разнообразны, а нормы трудового права могут быть в любых источниках, на что мы уже обратили внимание выше.
Согласно ст. 129 ТК РФ в понятие «заработная плата (оплата труда работника)» входят:
1) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
2) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера);
3) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Ст. 131 ТК РФ говорит о том, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
Хотелось бы сразу выдвинуть смелое утверждение: рассматриваемое вознаграждение на служебный ОИС является по своей правовой природе стимулирующей выплатой и потому включается в заработную плату, а не существует помимо нее, как утверждается в современной правовой науке.
Мы не видим каких-либо оснований возражать тому, что это вознаграждение поощряет такого работника, кто в процессе выполнения трудовой творческой функции создал удачный ОИС. И чем этот объект будет удачнее и более востребован работодателем или третьими лицами, тем больше будет вознаграждение. Зададимся вопросом: разве такое вознаграждение не стимулирует к тому, чтобы работник создавал более полезные работодателю ОИС? Безусловно! А поскольку такое творчество является трудовой обязанностью, а не какой-то дополнительной работой, то в качестве общего вывода необходимо сказать, что рассматриваемое вознаграждение стимулирует к более качественному и эффективному труду, полностью вписываясь в ст. 131 ТК РФ.
Отнесение вознаграждения работника за использование служебного ОИС к стимулирующим выплатам может оспариваться со следующих позиций.
В отличие от гражданского права, трудовое право ориентировано на оплату самого процесса труда, а не его результата. А рассматриваемое вознаграждение ставится в зависимость от использования результата труда работодателем, в зависимость от той выгоды, которую это дает. То есть, оно как бы оплачивает результат.
Это замечание отчасти верно. Но мы не склонны возводить в такой абсолют направленность заработной платы на оплату самого процесса труда. Возьмем хотя бы правило о том, что брак по вине работника оплате не подлежит (ст. 156 ТК РФ). Кроме того, представляется, что направленность заработной платы на оплату именно процесса труда более свойственна таким ее составляющим, как вознаграждение за труд и компенсационные выплаты, но не стимулирующим выплатам.
Действительно, плохо работник работает или нет, но пока он работает, вознаграждение за труд должно осуществляться. Но как только такое же соображение будет распространено и на стимулирующие выплаты, то они станут неактуальными и неэффективными. Ведь стимуляция как раз и заключается в том, что деньги будут выплачены в случае старания и успехов. Показателем этого является, как правило, полезность, эффективность, ценность именно результата работы. По крайней мере, это одно из типичных оснований для стимулирующей выплаты. И, конечно, следует согласиться с тем, что стимулирующей выплаты (например, премии) заслуживает не тот, кто в поте лица бегал по офису, но у которого так ничего особенного не получилось, а именно тот, чей результат принес работодателю пользу. В этом и видится суть стимулирующей выплаты. Она стимулирует не эффектный, а эффективный труд.
Могут заметить также, что обязанность выплачивать обсуждаемое вознаграждение принимается не работодателем, а возлагается на него законом. Получается, что работника стимулирует не работодатель, а законодатель. Но не думаем, что обязанность по выплате стимулирующей выплаты обязательно должна быть результатом свободного волеизъявления конкретного работодателя и не может быть установлена в нормативном акте, исходящем от государства.
Следующим весомым возражением нашей точке зрения может быть то, что обязанность работодателя по выплате заработной платы и право работника требовать ее прекращается с момента прекращения трудового договора, а рассматриваемое вознаграждение подлежит выплате и после увольнения.
Полагаем, что прекращение выплат после увольнения хотя и в большей степени соответствует трудовым отношениям, но опять-таки не является принципиальным для всех составляющих понятия заработной платы. В обсуждаемых отношениях между работником и работодателем работа была выполнена в период действия трудового договора, но при этом ее ценность определяется на всем протяжении фактического использования результата труда и сохранения исключительных прав на него. Поэтому более адекватной и разумной формой такого вознаграждения являются периодические платежи в течение всего этого срока. В этом состоит особенность анализируемого вознаграждения. Однако эта особенность вряд ли может быть достаточным основанием, чтобы не признать анализируемую выплату стимулирующей трудовой выплатой. Кроме того, если бы выплаты рассматриваемого вознаграждения прекращались после увольнения, то это создавало бы угрозу сохранения трудовых отношений: работодатель был бы крайней заинтересован в увольнении. А такая угроза несовместима с принципами трудового права.
Кстати говоря, вполне допустимо (и такую ситуацию легко можно представить), чтобы и премия за эффективную работу, совершенную в период действия трудового договора, была бы выплачена (и даже назначена) уже после того, как работник уволился. Например, согласно внутренним документам организации каждый, кто достиг определенных годовых показателей, имеет право на премию, конкретный размер которой определяется в зависимости от годовой прибыли предприятия принимаемым в конце года приказом. Работник достиг таких годовых показателей уже в ноябре, а в конце ноября уволился. Полагаем, он все же сохраняет право на назначение и выплату ему премии.
Говоря о ценности служебного ОИС и, соответственно, об эффективности работы по его созданию, следует вспомнить, что ОИС, в отличие от вещей, подвержены такому процессу, как «моральное старение». То, какую прибыль они принесут и как долго они будут ее приносить, заранее знать невозможно. Поэтому невозможно заранее определить их ценность. Но именно от этого должен зависеть размер поощрения (вознаграждения) работника за проделанную работу по созданию ОИС. Отсюда и особенность его выплат на всем протяжении использования объекта в форме периодических платежей.
Таким образом, представляется неверным распространять принцип «оплата труда во время сохранения трудовых отношений» и на те стимулирующие выплаты, предметом которых является не просто всякий труд работника, а именно труд эффективный и полезный.
Ссылка на норму ст. 140 ТК РФ, согласно которой при прекращении трудового договора в день увольнения происходит выплата работнику всех причитающихся сумм, может быть, на наш взгляд, опровергнута тем соображением, что в этой статье по естественным причинам не может идти речь о суммах, размер которых на момент увольнения еще не ясен. Такое вполне может быть при некоторых формах вознаграждения за труд (например, при сдельной оплате работник выполнил работу, но событие, являющееся основанием для расчета, произошло уже после увольнения) и при некоторых стимулирующих выплатах (например, условия для премии были выполнены в период работы, но ее размер был определен и приказ о выплате принят уже после увольнения).
Вышеизложенное позволяет увидеть у вознаграждения за использование служебного ОИС и у стимулирующей трудовой выплаты следующие общие признаки:
1) Оплата труда, осуществляемого при выполнении трудовой функции;
2) Стимулирование плодотворного труда путем поощрения за такой труд.
При этом в анализируемых отношениях удачность, эффективность труда констатируется не свободным субъективным усмотрением работодателя, как это зачастую бывает при премиях, а оценивается по еще более объективному критерию – по выгоде от действий работодателя с этим результатом. Эта и иные отмеченные выше особенности вознаграждения за использование служебного ОИС вряд ли могут считаться теми коренными отличиями, которые заставляют рассматривать его и трудовые стимулирующие выплаты как принципиально разные явления. Гораздо важнее два выделенных общих признака.
А если данное вознаграждение является разновидностью трудовой стимулирующей выплаты, то, как отмечено выше, есть все основания считать трудовыми те отношения, которые регулируются нормами ГК РФ о служебных ОИС. По крайней мере, оправданным видится взгляд, что данная область отношений является местом наложения предметов регулирования трудового и гражданского права[7].
Взгляд на отношения по поводу служебных ОИС как на трудовые влечет следующие предложения о том, как должны быть решены актуальные для практики вопросы.
1. Право на вознаграждение за использование служебных ОИС по наследству не переходит.
Данный вывод является спорным даже и сточки зрения действующего законодательства, поскольку не вполне ясно, считает ли законодатель право на такое вознаграждение «неразрывно связанным с личностью» наследодателя (см. ст. 1112 ГК РФ). По этому вопросу в ответ на отмеченную выше статью О.Ю.Шилохвоста высказал свое мнение Э.П.Гаврилов[8]. Он считает, что право на рассматриваемое вознаграждение связано с личностью автора и не может перейти к другому лицу при жизни автора. Но при этом неразрывной связи все же нет, а потому данное право наследуется. Данное противоречие между неспособностью к изменению правообладателя при жизни и изменением его после смерти профессор объяснил тем, что связь с личностью автора вытекает не из существа этого права, а из необходимости защитить имущественные интересы автора. Это объяснение нам представляется неясным и противоречивым, поскольку охраняемый интерес характеризует исследуемое право, относится к его существу[9]. Если после смерти полностью исчезает тот интерес и тот субъект, которых нужно защищать, то откуда могут взяться социальные предпосылки для того, чтобы это право переходило по наследству? Тем более, что вознаграждение автору способствуют увеличению цены товаров.
С точки зрения высказанной выше концепции о трудовом характере вознаграждения за использование служебного ОИС предложенный О.Ю.Шилохвостом и нами вывод представляется логичным. Любой вид оплаты наемного труда имеет личный характер, и третьи лица (в т.ч. наследники) никак не могут быть причастными к праву на получение заработной платы.
Да, невыплаченная к моменту смерти заработная плата переходит по наследству, поскольку уже составляет имущество лица, нажитое им при жизни. Также не видится ничего незаконного в той возможной договоренности между работником и работодателем, что заработная плата будет перечисляться третьему лицу. Однако абсолютно исключено, чтобы каким-либо образом третье лицо получило право требовать оплаты ему чужого наемного труда.
Из неразрывной связи права на получение заработной платы с личностью работника как раз и следует тот вывод, что вознаграждение за служебный ОИС, будучи разновидностью оплаты труда, не переходит по наследству. Другой человек (наследник) не может рассматриваться как претендент на вознаграждение за труд, проделанный умершим родственником. После смерти автора обязанность работодателя по его выплате прекращается.
2. Задержка в выплате вознаграждения за ОИС – это нарушение не ГК РФ, а нарушение трудового права работника, ответственность за которое предусмотрена в ТК РФ.
3. Обязанность по выплате вознаграждения лежит только на работодателе и может перейти к другому лицу только в порядке универсального правопреемства.
Данное предложение основывается на том, что рассматриваемое вознаграждение тесно связано с той выгодой, которую получает работодатель от реализации своих прав на служебный ОИС. Эта выгода и показывает, насколько эффективным и полезным для работодателя оказался умственный труд его работника, входивший в трудовую функцию.
Эта выгода может быть получена от трех видов действий: использование объекта самим работодателем, отчуждение им исключительного права, выдача им лицензий. Работник имеет право получить свой процент от выгоды за каждое из этих действий.
Но следует дать отрицательный ответ на чрезвычайно актуальный для практики вопрос о том, вправе ли автор требовать вознаграждения за использование служебного объекта новым правообладателем или лицензиатом. Такое использование не имеет никакой связи с трудовыми отношениями между автором и работодателем, с теми интересами и основаниями, в силу которых работник особым образом поощряется за эффективный умственный наемный труд. Полагаем не имеющим каких-либо социальных и моральных оснований, чтобы автор сначала получил от работодателя процент от цены договора отчуждения исключительного права или лицензионного договора, а затем еще и получал вознаграждение за использование объекта новым пользователем. Это будет двойным вознаграждением за одно и то же.
Кстати говоря, в подавляющем большинстве случаев автор имеет реальную возможность проконтролировать правильность определения размера вознаграждения за использование служебного ОИС, только если он работает в данной организации.
С точки зрения описанной выше концепции мы вынуждены отвергнуть и тот разделяемый многими вывод, что право на вознаграждение за использование служебного ОИС является неким гражданским правом, не относимым ни к имущественным, ни к личным неимущественным, и что обязанным платить это вознаграждение является любой пользователь.
4. Автор служебного объекта промышленной собственности не имеет права на поощрительное вознаграждение за получение патента работодателем, поскольку возникновение у работодателя права на созданный результат является абсолютно естественным и само по себе ценность и эффективность этого результата и проделанной работы еще не подтверждает. То есть, поощрять работника при получении патента пока еще не за что.
Данное предложение было подробно обосновано мною в более ранней публикации: Лабзин М.В. Вознаграждение за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы («Патенты и лицензии» №10/2006). В ответ на не очень внимательную критику данного предложения[10] необходимо отметить следующее. Во-первых, оно было высказано в тот момент, когда воля законодателя о действии законодательства СССР была в высшей степени неясной. Во-вторых, оно касается только вознаграждения за получение патента, а не за использование ОИС работодателем. В-третьих, оно и после прояснения вопроса о действии законодательства СССР в законе о введении в действие IV части ГК РФ сохраняет актуальность. Но, обращаем внимание, это актуальность имеется уже не с точки зрения действующего, а предлагаемого правового регулирования.
5. Выполнение работником умственной работы по служебному заданию, не входящему в его трудовую функцию, влечет возникновение исключительного права у работодателя.
Для трудового права абсолютно не свойственно такое последствие принуждения работника выполнить работу вне трудовых обязанностей, как возникновение права собственности на ее результаты у работника.
Представим себе ситуацию, что руководство завода по тем или иным причинам, тем или иным способом заставило работника целый день работать на том агрегате, который не соответствовал его должности. Вряд ли кто-то придет к выводу, что эти отношения не являются трудовыми или что в ответ на это работник вправе потребовать у завода виндикации всех произведенных им в тот день изделий.
Согласно Трудовому Кодексу РФ (ТК РФ) это именуется переводом на другую работу. Такой перевод допускается только с письменного согласия работника. В исключительных случаях временный перевод на другую работу допустим без согласия с выплатой соответствующих компенсаций. Впрочем, выполнение творческой работы вряд ли может быть отнесено к каким-либо из этих случаев. При незаконном переводе на другую работу согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок. Ст. 394 ТК РФ говорит о тех решениях, которые могут быть вынесены по спору о незаконном переводе на другую работу.
Полагаем, что и в отношении служебных ОИС союз «или» в нормах ГК РФ о последствиях создания ОИС в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания не является ошибкой. Уж если работник и согласился подчиниться работодателю и выполнить для него задание, которое не было обусловлено трудовой функцией, создал при этом ОИС, то этот объект все же должен считаться служебным, их отношения все же считаются трудовыми, но работодатель может быть привлечен к ответственности за незаконный перевод на другую работу.
Хочется вспомнить, что критерий желания быть полезным работодателю является одним из главных критериев отнесения ОИС к служебному в судебной практике США. И это представляется правильным.
6. При прекращении исключительного права обязанность по выплате вознаграждения прекращается.
Переход ОИС в общественное достояние в связи с истечением срока действия права означает, что работодатель больше не будет монополистом и не сможет больше извлекать выгоду вследствие своего монопольного положения, уникальность его продукции больше не гарантируется. Любой может использовать созданный работником ОИС. Было бы неверным решением сохранять обязанность по выплате вознаграждения лишь за одним из пользователей ОИС – за работодателем.
Прекращение работодателем уплаты пошлины за полученный им патент на служебный объект промышленной собственности означает, что работодатель больше не видит, что его монопольное положение приносит выгоду. Чаще всего так бывает по той причине, что уровень техники ушел вперед, а ОИС морально устарел. В этот момент срок поощрения работника за данный созданный им ОИС должен считаться истекшим.
***
Вышеназванные предложения мы полагаем соответствующими реалиям жизни и задаче найти баланс интересов между автором-работником и работодателем, чтобы умственный наемный труд был более эффективным, чтобы работодатель был заинтересован в сотрудничестве с талантливыми и творческими работниками. Вполне возможно, наши критики в силу серьезных аргументов придут к выводу о том, что данные предложения не соответствуют букве и смыслу действующего законодательства. Но в таком случае мы сохраним убежденность в том, что упрека заслуживает сам законодатель и что его подходы должны быть скорректированы в сторону следования трудовой природе отношений по поводу служебных ОИС. Если же появятся новые публикации, в которых будет попытка обосновать саму гражданско-правовую суть этих отношений и опровергнуть трудовую, то мы будем рады продолжить дискуссию.
В.Н.Кастальский. Авторское вознаграждение за использование служебных изобретений. – Патенты и лицензии, №3/2008
[3] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный). Часть четвертая/ Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П.Гришаев и др. М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2007. С. 311. Такой взгляд является в настоящее время общепризнанным и безальтернативным.
[4] Исключение составляет статья О.Ю.Шилохвоста «Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» - Патенты лицензии №1/2008. В ней автор высказал мысль, что право автора-работника на вознаграждение имеет не гражданско-правовой характер, а возникает в трудовых отношениях. Впрочем, данная мысль осталась практически неаргументированной.
[5] одробнее об этом и ссылки на соответствующую литературу см. Мирошникова М. А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. – М., 2005, стр. 10-27.
[6] Трудовое право: учеб. Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигеревой - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008 – С. 9.
[7] Здесь нельзя не вспомнить, что вопрос об оправданности разделения трудового и гражданского права на разные отрасли имеет давнюю историю и обсуждается учеными до сих пор.
[8]
Э.П.Гаврилов. Наследование интеллектуальных прав. – Патенты и лицензии, №4/2008 [9] Субъективное право как обеспеченная законом возможность определенного поведения лица, безусловно, является ответом законодателя на вопрос о том, какой интерес и в какой мере следует защитить. Такой ответ в некоторой степени предопределен и отчасти обуславливается самой жизнью, потребовавшей этого ответа. Со стороны законодателя он может отказаться несвоевременным, не вполне точным, не вполне верным или неполным. Подробнее о процессе зарождения правовой нормы и образовании правоотношений см. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под. общ. ред. В.А.Белова – М., 2007, стр. 98 (сноска), 141, 147-148, 205.
[10] См., напр., В.А.Логачев. Определение прибыли и размера авторского вознаграждения – «Патенты и лицензии», №4/2008